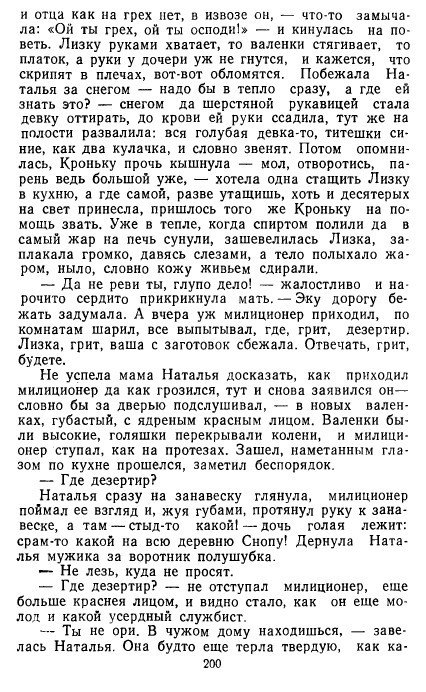Золотое дно (сборник), стр. 58
глохла, уступив место новым мыслям, новым заботам.
— Ты из столовки ведра с крышкой носи...
— А я как ношу? — огрызнулась Талька.
— Не кричи, не кричи. Я и говорю — с крышкой
носи. Люди глупые, скажут, что у Федора Чудинова
кулацкие замашки. Им бы только ярлык навесить, а по
том и не расхлебать будет.
— Словно люди и не знают. Видят ведь, не слепые.
Каждый день с ведром прусь. Д а и в столовке не спря
чешь куски.
— А ведра-то с крышкой носи. Болтать люди будут,
мол, Талька Чудинова из столовки куски таскает. На
меня тень падет.
— Боишься, что в президиум не выберут? Посмотри,
люди-то над тобой хохочут.
— Падет, говорю, тень. Слободским только бы язы
196
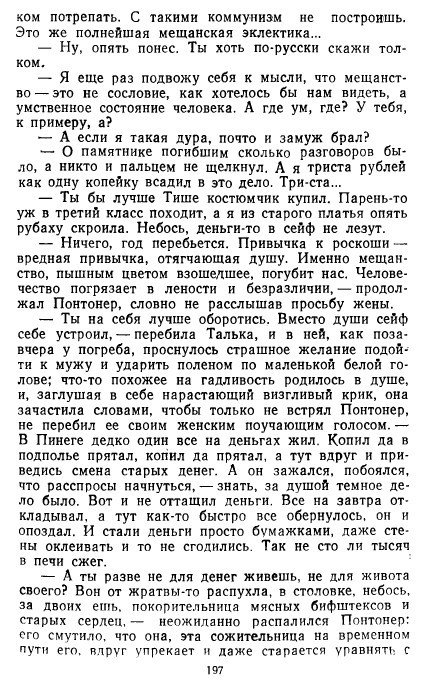
Это же полнейшая мещанская эклектика...
— Ну, опять понес. Ты хоть по-русски скажи тол
ком.
— Я еще раз подвожу себя к мысли, что мещанст
во — это не сословие, как хотелось бы нам видеть, а
умственное состояние человека. А где ум, где? У тебя,
к примеру, а?
— А если я такая дура, почто и замуж брал?
■ О памятнике погибшим сколько разговоров бы—
ло, а никто и пальцем не щелкнул. А я триста рублей
как одну копейку всадил в это дело. Три-ста...
— Ты бы лучше Тише костюмчик купил. Парень-то
уж в третий класс походит, а я из старого платья опять
рубаху скроила. Небось, деньги-то в сейф не лезут.
— Ничего, год перебьется. Привычка к роскоши —
вредная привычка, отягчающая душу. Именно мещан
ство, пышным цветом взошедшее, погубит нас. Челове
чество погрязает в лености и безразличии, — продол
жал Понтонер, словно не расслышав просьбу жены.
— Ты на себя лучше оборотись. Вместо души сейф
себе устроил, — перебила Талька, и в ней, как поза
вчера у погреба, проснулось страшное желание подой
ти к мужу и ударить поленом по маленькой белой го
лове; что-то похожее на гадливость родилось в душе,
и, заглушая в себе нарастающий визгливый крик, она
зачастила словами, чтобы только не встрял Понтонер,
не перебил ее своим женским поучающим голосом. —
В Пинеге дедко один все на деньгах жил. Копил да в
подполье прятал, копил да прятал, а тут вдруг и при-
ведись смена старых денег. А он зажался, побоялся,
что расспросы начнуться, — знать, за душой темное де
ло было. Вот и не оттащил деньги. Все на завтра от
кладывал, а тут как-то быстро все обернулось, он и
опоздал. И стали деньги просто бумажками, даже сте
ны оклеивать и то не сгодились. Так не сто ли тысяч
в печи сжег.
— А ты разве не для денег живешь, не для живота
своего? Вон от жратвьт-то распухла, в столовке, небось,
за двоих ешь, покорительница мясных бифштексов и
старых сердец, — неожиданно распалился Понтонер:
его смутило, что она, эта сожительница на временном
пути его, вдруг упрекает и даже старается уравнять с
197
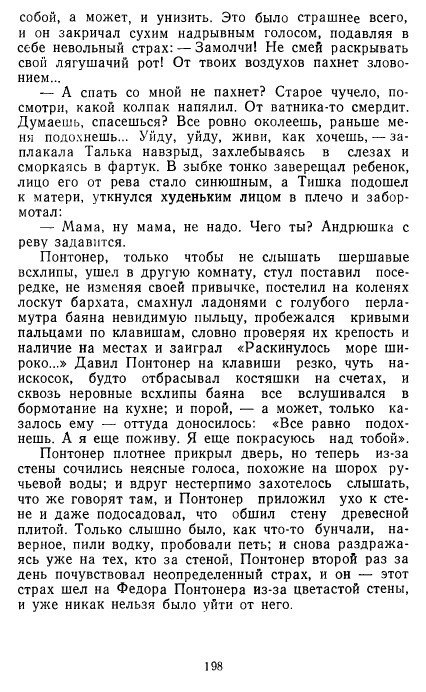
и он закричал сухим надрывным голосом, подавляя в
себе невольный страх: — Замолчи! Не смей раскрывать
свой лягушачий рот! От твоих воздухов пахнет злово
нием...
— А спать со мной не пахнет? Старое чучело, по
смотри, какой колпак напялил. От ватника-то смердит.
Думаешь, спасешься? Все ровно околеешь, раньше ме
ня подохнешь... Уйду, уйду, живи, как хочешь, — за
плакала Талька навзрыд, захлебываясь в слезах и
сморкаясь в фартук. В зыбке тонко заверещал ребенок,
лицо его от рева стало синюшным, а Тишка подошел
к матери, уткнулся худеньким лицом в плечо и забор
мотал:
— Мама, ну мама, не надо. Чего ты? Андрюшка с
реву задавится.
Понтонер, только чтобы не слышать шершавые
всхлипы, ушел в другую комнату, стул поставил посе
редке, не изменяя своей привычке, постелил на коленях
лоскут бархата, смахнул ладонями с голубого перла
мутра баяна невидимую пыльцу, пробежался кривыми
пальцами по клавишам, словно проверяя их крепость и
наличие на местах и заиграл «Раскинулось море ши
роко...» Давил Понтонер на клавиши резко, чуть на
искосок, будто отбрасывал костяшки на счетах, и
сквозь неровные всхлипы баяна все вслушивался в
бормотание на кухне; и порой, — а может, только ка
залось ему — оттуда доносилось: «Все равно подох
нешь. А я еще поживу. Я еще покрасуюсь над тобой».
Понтонер плотнее прикрыл дверь, но теперь из-за
стены сочились неясные голоса, похожие на шорох ру
чьевой воды; и вдруг нестерпимо захотелось слышать,
что же говорят там, и Понтонер приложил ухо к сте
не и даже подосадовал, что обшил стену древесной
плитой. Только слышно было, как что-то бунчали, на
верное, пили водку, пробовали петь; и снова раздраж а
ясь уже на тех, кто за стеной, Понтонер второй раз за
день почувствовал неопределенный страх, и он — этот
страх шел на Федора Понтонера из-за цветастой стены,
и уже никак нельзя было уйти от него.
198
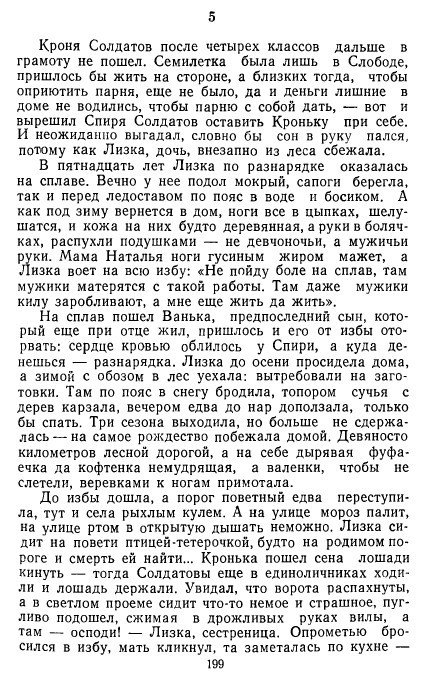
Кроня Солдатов после четырех классов дальше в
грамоту не пошел. Семилетка была лишь в Слободе,
пришлось бы жить на стороне, а близких тогда, чтобы
оприютить парня, еще не было, да и деньги лишние в
доме не водились, чтобы парню с собой дать, — вот и
вырешил Спиря Солдатов оставить Кроньку при себе.
И неожиданно выгадал, словно бы сон в руку палея,
потому как Лизка, дочь, внезапно из леса сбежала.
В пятнадцать лет Лизка по разнарядке оказалась
на сплаве. Вечно у нее подол мокрый, сапоги берегла,
так и перед ледоставом по пояс в воде и босиком. А
как под зиму вернется в дом, ноги все в цыпках, шелу
шатся, и кожа на них будто деревянная, а руки в боляч
ках, распухли подушками — не девчоночьи, а мужичьи
руки. Мама Наталья ноги гусиным жиром мажет, а
Лизка воет на всю избу: «Не пойду боле на сплав, там
мужики матерятся с такой работы. Там даже мужики
килу заробливают, а мне еще жить да жить».
На сплав пошел Ванька, предпоследний сын, кото
рый еще при отце жил, пришлось и его от избы ото
рвать: сердце кровью облилось у Спири, а куда де
нешься — разнарядка. Лизка до осени просидела дома,
а зимой с обозом в лес уехала: вытребовали на заго
товки. Там по пояс в снегу бродила, топором сучья с
дерев карзала, вечером едва до нар доползала, только
бы спать. Три сезона выходила, но больше не сдержа
лась — на самое рождество побежала домой. Девяносто
километров лесной дорогой, а на себе дырявая фуфа
ечка да кофтенка немудрящая, а валенки, чтобы не
слетели, веревками к ногам примотала.
До избы дошла, а порог поветный едва переступи
ла, тут и села рыхлым кулем. А на улице мороз палит,
на улице ртом в открытую дышать неможно. Лизка си
дит на повети птицей-тетерочкой, будто на родимом по
роге и смерть ей найти... Кронька пошел сена лошади
кинуть — тогда Солдатовы еще в единоличниках ходи
ли и лошадь держали. Увидал, что ворота распахнуты,
а в светлом проеме сидит что-то немое и страшное, пуг
ливо подошел, сжимая в дрожливых руках вилы, а
там — осподи! — Лизка, сестреница. Опрометью бро
сился в избу, мать кликнул, та заметалась по кухне —
199